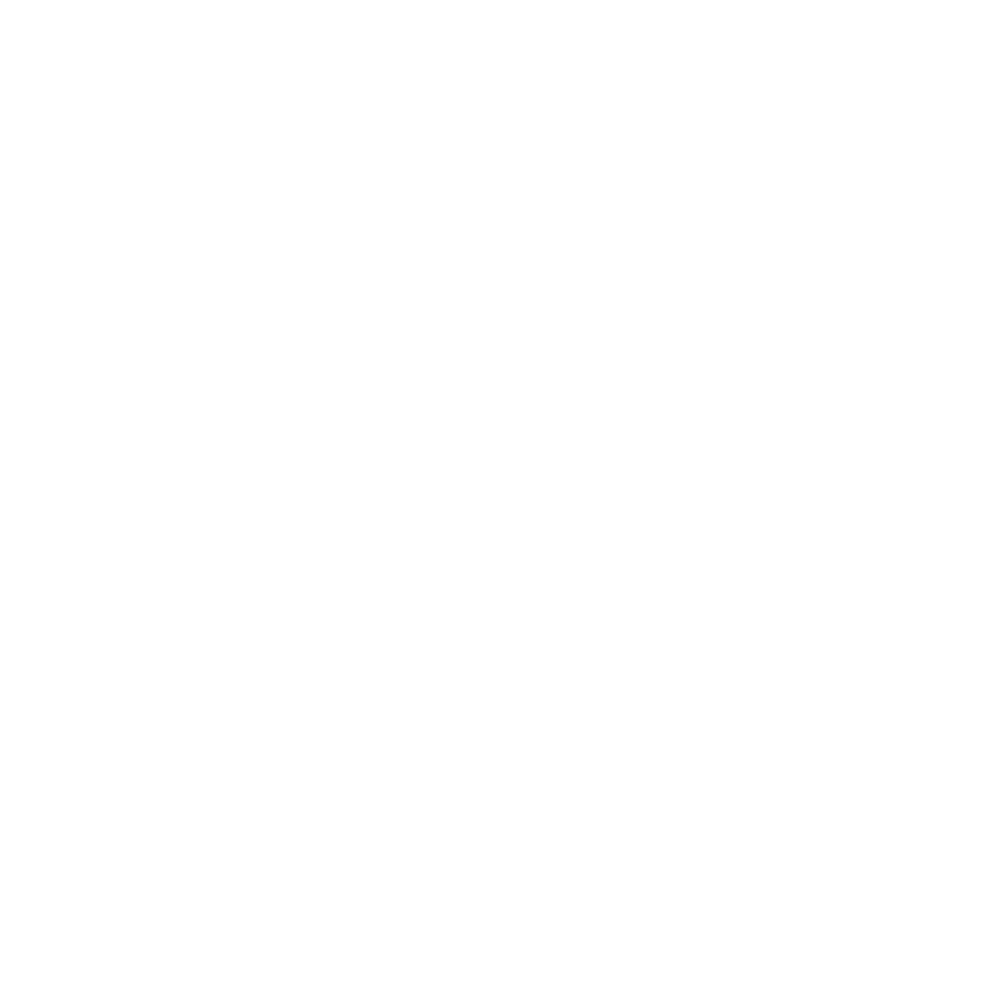Фрэнсис Бэкон
Francis Bacon
Жиль Делёз
Основной темой его работ является человеческое тело — искажённое, вытянутое, заключённое в геометрические фигуры, на лишённом предметов фоне. Триптих — излюбленная форма в творчестве художника: как он говорил, «я вижу изображения последовательно». Сохранилось 28 триптихов разных размеров, а несколько других было уничтожено самим Бэконом: он очень критично подходил к своим работам.
В молодости Бэкон не получил художественного образования и долгое время находился в неведении относительно своей будущей профессии, экспериментируя с различными родами деятельности, поэтому его стиль — особое смешение его собственного восприятия и ярких заимствованных образов, которые прослеживаются во многих работах художника. Переломный момент в его творчестве наступил в 1944 году с триптихом «Три этюда к фигурам у подножия распятия», который привлёк внимание публики своим ярким, грубым изображением страдания и крика и получил высокие оценки критиков. Последующие работы также вызывали значительный интерес и получали как лестные, так и отрицательные отзывы. Например, Маргарет Тэтчер назвала его «человеком, который рисует эти ужасные картины». Так или иначе, в поздний период жизни за ним прочно закрепился статус одного из ведущих британских художников XX века, и в настоящее время его работы высоко ценятся — несколько произведений входит в список самых дорогих картин.
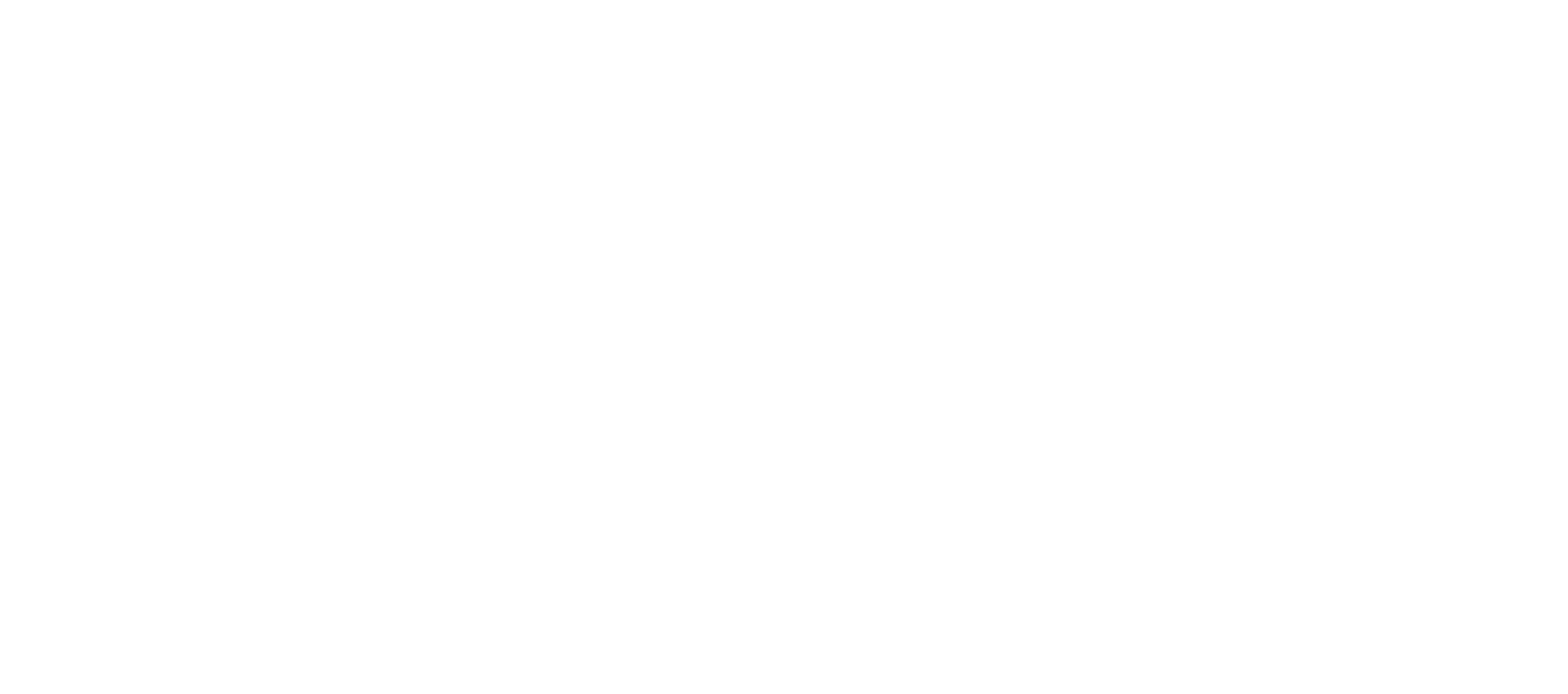
Во время Первой мировой войны семья переехала в Лондон, где отец Фрэнсиса служил в военном министерстве. В 1918 году они вернулись в Ирландию, однако там началась сначала война за независимость, а затем гражданская война. Это вынудило их постоянно менять место жительства. Из-за частых переездов, начальное образование Фрэнсиса ограничилось лишь двумя годами в школе Дин Клоуз в Челтнеме. Отец Бэкона, человек строгих нравов и пуританской морали, воспитывал сына сурово. Как вспоминал сам художник впоследствии, он заставлял его кататься верхом, хотя знал, какой губительный эффект оказывает присутствие рядом с Бэконом, страдающим хронической астмой, лошадей и собак. В 1926 году отец изгнал Фрэнсиса из дома после того, как застал его наряжающимся в одежды матери. Бэкон переехал в Лондон, где жил на 3 фунта в неделю, посылаемые ему матерью, а также перебивался случайными заработками.
В 1927 году Бэкон по настоянию отца совершил полугодовое путешествие в Берлин вместе с другом семьи Сесилом Харкорт-Смитом. Отец надеялся, что бывший военный положительно повлияет на Фрэнсиса. Однако по приезде они вступили в сексуальную связь. В Берлине Бэкон встречался с людьми искусства и посещал ночные клубы. Состоялось его знакомство с фильмами Сергея Эйзенштейна и Фрица Ланга. Как он сам отмечал позже, их работы оказали на него большое влияние, особенно «Метрополис» и «Броненосец Потёмкин». Следующие полтора года Бэкон провёл во Франции, проживая у своей знакомой пианистки мадам Бокентен в Шантийи. Он изучал французский язык и посещал художественные выставки. Посетив выставку Пикассо в галерее Поля Розенберга в Парижe, Бэкон решил также заняться живописью. В начале 1929 года Бэкон возвратился в Лондон, поселился в доме № 17 по улице Куинсбери Мьюс Уэст в Южном Кенсингтоне и занялся дизайном интерьеров. В августе 1930 его работы появились в журнале «The Studio» как примеры «1930 года в британском декоративном искусстве». Тогда же Бэкон познакомился с Эриком Холлом, который на долгое время стал его любовником и спонсором, и Роем де Мейстром, австралийским художником-кубистом, с которым впервые опробовал рисование маслом. В конце 1930 года он вновь посетил Берлин, где получил большой заказ на дизайн и реставрацию мебели. В апреле 1933 года он среди прочих художников принял участие в выставке в Мейор Гэллери, и его картина «Распятие, 1933», созданная под влиянием творчества Пикассо, была приобретена коллекционером Майклом Сэдлером. Однако, последующие работы были приняты хуже: картины и рисунки, выставленные в феврале 1934 года на его персональной экспозиции, продавались плохо и были отмечены негативной рецензией в «Таймс», а летом 1936 года ему отказали кураторы Международной Сюрреалистической выставки, сочтя его работы «недостаточно сюрреалистическими». После ряда неудач, Бэкон уничтожил большинство своих работ и некоторое время не занимался живописью.
В 1935 году Бэкон вновь посетил Париж. В дороге он приобрёл книгу о болезнях ротовой полости — увиденные картинки оказали большое воздействие на его дальнейшее творчество. В 1937 он принял участие в выставке, проведённой Холлом и де Мейстром, и познакомился с Грэхемом Сазерлендом. В 1940 году умер его отец, и Бэкон унаследовал всё имущество, так как его братьев к тому моменту уже не было в живых. Во время Второй мировой войны Бэкон не был призван в регулярную армию из-за хронической астмы, но добровольно служил в частях гражданской обороны. Однако, его здоровье ухудшилось, и в 1942 году он покинул службу и арендовал коттедж в сельской местности в Хэмпшире вместе с Эриком Холлом. Там Бэкон продолжал заниматься живописью, но никакие картины того периода не сохранились. В 1943 году Бэкон вернулся в Лондон и поселился в доме № 7 на площади Кромвеля, в Южном Кенсингтоне, где он с Холлом открыл подпольное казино. Вскоре Бэкон познакомился с художником Люсьеном Фрейдом, который стал его близким другом. Они вместе посещали бары, клубы и игорные заведения в Сохо. По признанию Фрейда, они встречались каждый день на протяжении 25 лет с середины 1940-х. Фрейд значительно повлиял на живопись Бэкона: он стал объектом многочисленных полотен, например, «Две фигуры» (1953), «Этюд к портрету Люсьена Фрейда» (1964), «Три этюда к портрету Люсьена Фрейда» (1966), «Три наброска к портрету Люсьена Фрейда» (1969). Их дружба закончилась в начале 1970-х годов в связи с творческими разногласиями: Фрейд называл поздние работы Бэкона «ужасными».
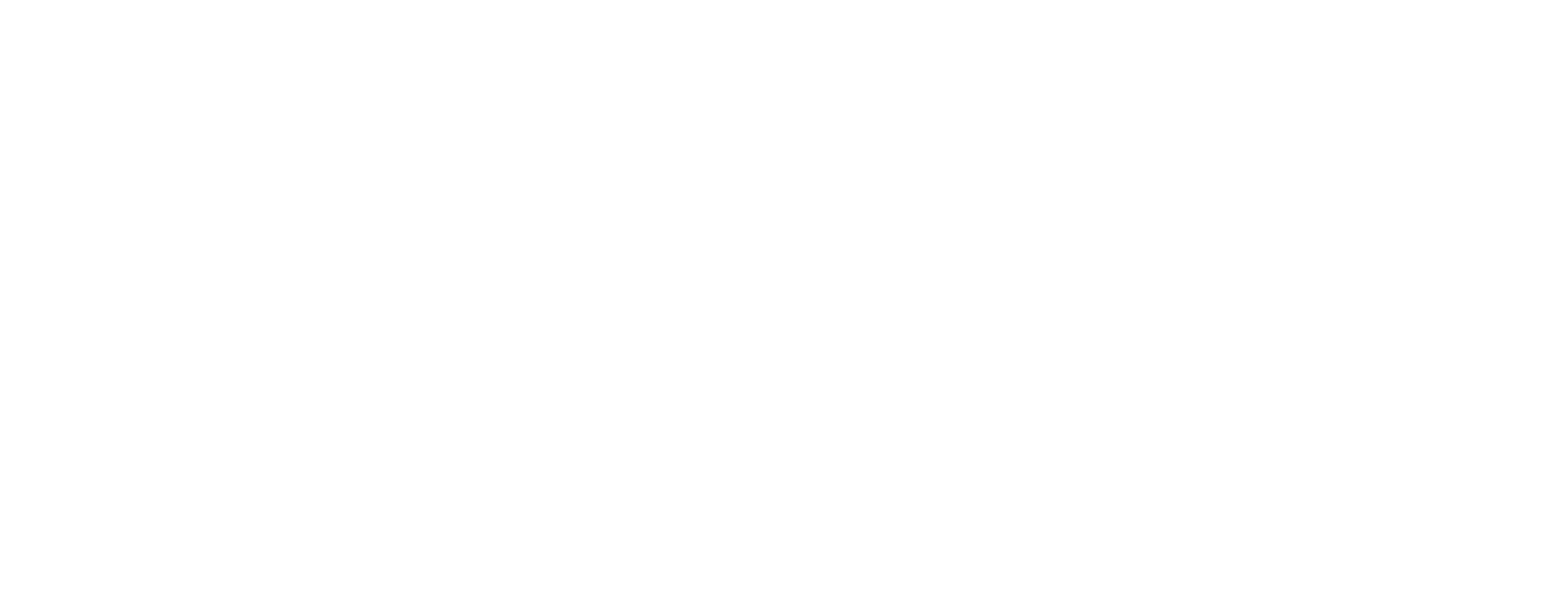
Бэкон много путешествовал: в 1946 году он совершил путешествие в Париж, где подробно ознакомился с французским послевоенным искусством и идеями экзистенциализма, а в 1950 и 1952 годах посещал Южную Африку: его мать переехала туда после смерти мужа, а сёстры жили в Южной Родезии. Он был впечатлён африканской природой и культурой: этими мотивами наполнены такие работы, как «Этюд к фигуре в пейзаже» (1952) и серия картин «Сфинкс» (1953—1954). В 1956 году он побывал в Танжере вместе со своим новым любовником Питером Лейси, где познакомился с Уильямом Берроузом и Алленом Гинзбергом.
С конца 1940-х годов о Бэконе стали говорить как об одном из ведущих британских художников, и его работы всё чаще выставлялись на публике. Осенью и зимой 1949 года в галерее Ганновер в Лондоне прошла его первая крупная персональная выставка. Там выставлялись такие полотна, как «Головы I—VI» (1948—1949), «Этюд к человеческому телу» (1949) и «Этюд к портрету» (1949). «Голова VI» — первая картина Бэкона, в основе которой лежит работа Диего Веласкеса «Портрет папы Иннокентия X» 1650 года. Этот образ художник продолжал использовать в своих работах до начала 1960-х годов. В октябре 1953 Бэкон выставлялся в нью-йоркской галерее Дурлахер: это была его первая выставка в США, а в следующем году состоялась экспозиция на Венецианской биеннале. В 1957 году в Лондоне выставлялись работы по мотивам картин Ван Гога (особенно Бэкон увлёкся вариациями на картину «Художник по дороге в Тараскон»). Успех этой выставки подвигает Галерею изобразительных искусств Мальборо предложить художнику контракт, согласно которому галерея оплатила все его долги, а также взяла на себя обязательство договариваться о выставках. В 1961 году он переехал в дом № 7 по улице Рис Мьюз в Южном Кенсингтоне, и проживал там до конца своих дней. На первом этаже расположилась его мастерская, где в первые же месяцы после переезда Бэкон создал свой первый крупноформатный (198,2 × 144,8 см) триптих под названием «Три этюда к распятию» (1962). В мае 1962 года прошла его персональная выставка в Галерее Тейт. В конце 1963 года Бэкон познакомился с Джорджем Дайером, который стал его любовником и занял важную позицию в его творчестве. По словам художника, знакомство произошло, когда он застал Дайера, грабящего его дом. Выходец из низов общества, Дайер страдал от алкоголизма и депрессии и в октябре 1971 года совершил самоубийство, приняв смертельную дозу барбитуратов, в номере отеля «Hôtel des Saints-Pères» в Париже, который занимал вместе с художником. Через два дня открылась ретроспективная экспозиция в Гран-Пале, где выставлялось 108 картин, в том числе 11 триптихов, и которая получила высокие оценки критиков и зрителей. В том же году Бэкон возглавил список выдающихся художников современности, составленный французским журналом «Connaissance des Arts». Но, несмотря на профессиональный успех, он был глубоко подавлен и в 1972—1973 годах написал серию из 3 работ, получившую название «Чёрные триптихи», и посвящённую памяти его друга, и наполненную мотивами смерти и скорби. После самоубийства Дайера Бэкон стал чаще обращаться к автопортрету, так как, по его словам, «люди вокруг меня мрут как мухи, и больше некого писать, кроме себя».
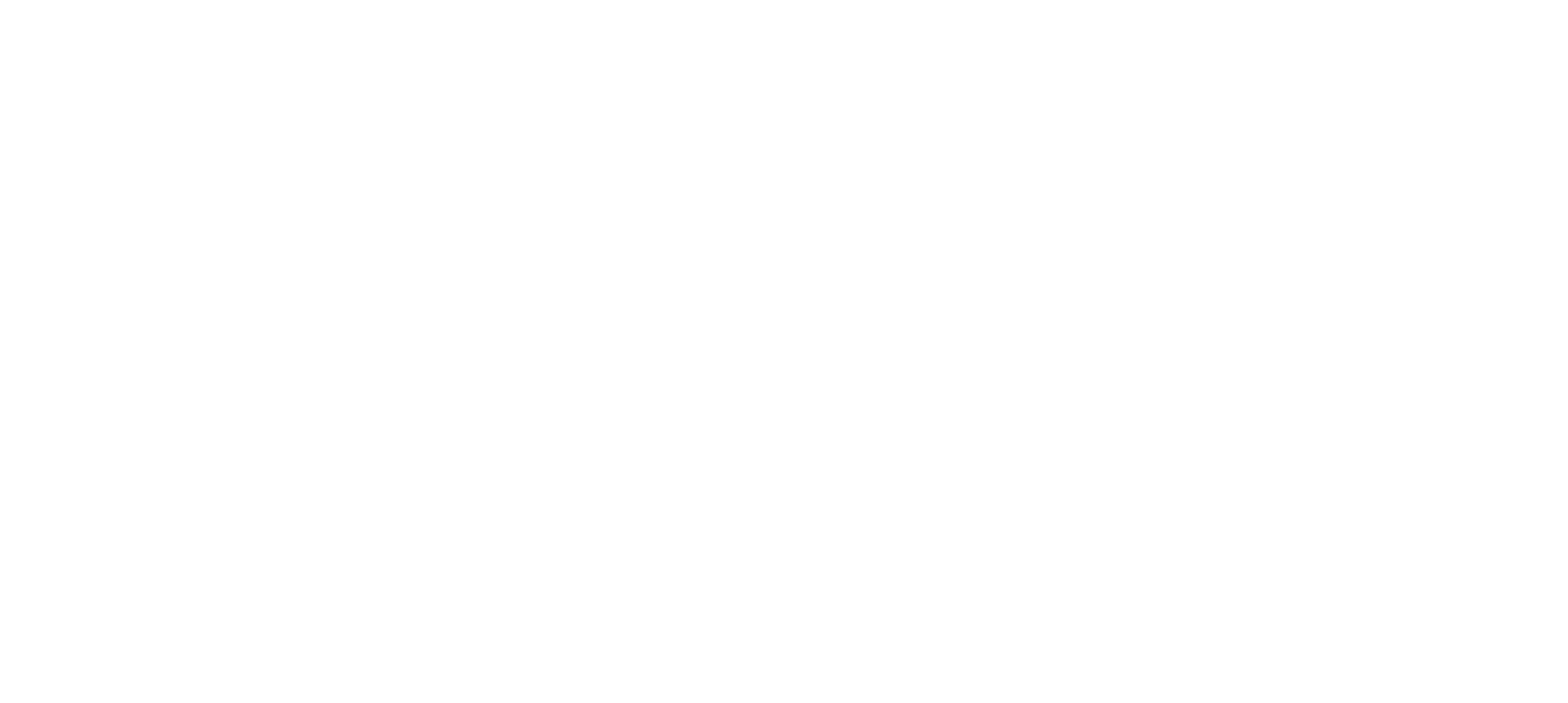
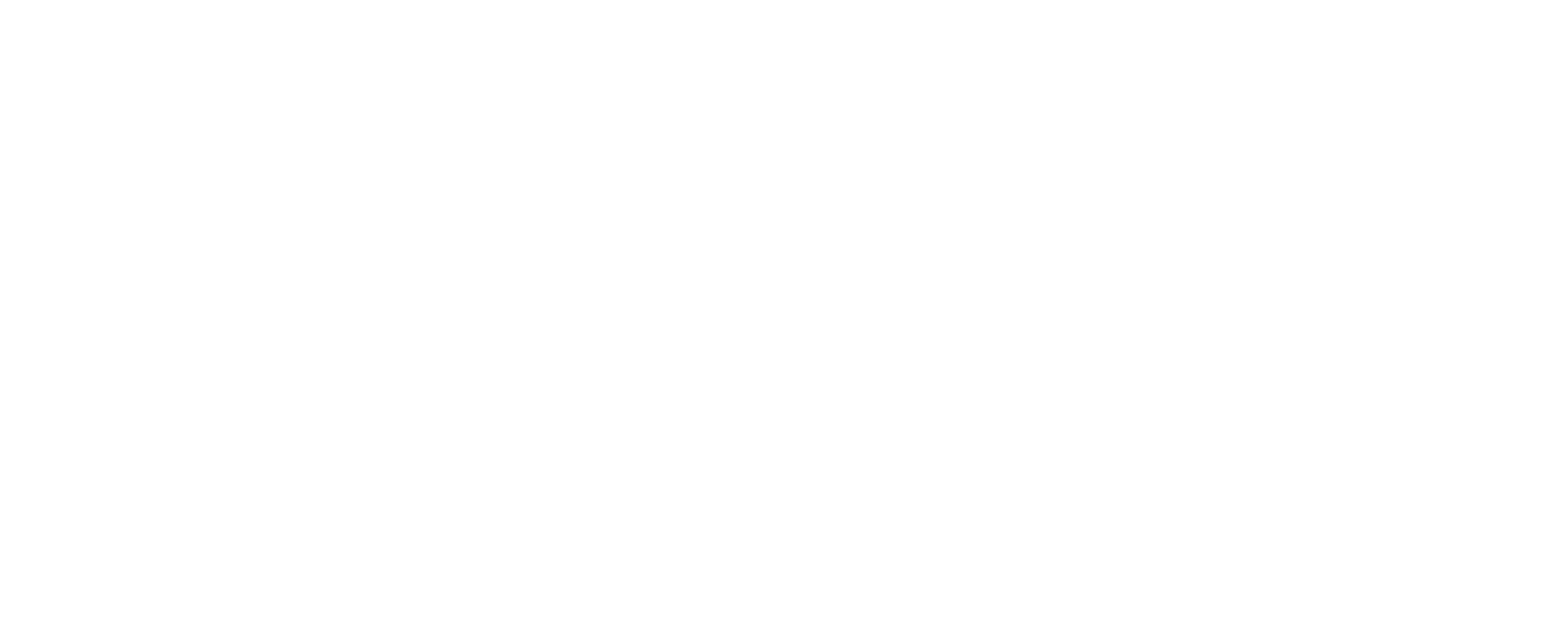
Некоторые образы постоянно встречаются в творчестве Бэкона: крик, как утверждает сам художник, явился образом-катализатором для его творчества. Бэкон обратил внимание на этот сюжет, увидев фильм Эйзенштейна «Броненосец Потёмкин» и прочитав книгу о болезнях ротовой полости. Впоследствии он обращался к этому мотиву в таких работах, как триптих «Три этюда к фигурам у подножия распятия» и серия картин «Кричащие папы». Жиль Делёз отмечал, что «у Бэкона крик — процесс, когда всё тело выходит через рот». Образ распятия прослеживается в творчестве Бэкона с самого начала и является основополагающим принципом многих работ. Сам художник говорил: «Я не нашёл ещё более подходящей темы для выражения человеческих чувств». Источником сюжета послужили Изенгеймский алтарь и «Распятие» Чимабуэ из базилики Санта-Кроче, однако, пытаясь не изобразить религиозное событие, но передать представление человека о самом себе, художник интерпретировал их по-своему. Примерами использования этого образа являются такие картины, как «Распятие, 1933», «Фрагмент распятия» (1950) и «Три этюда к распятию» (1962). Зачастую фигура, изображённая на картине, заключена в трёхмерную фигуру-клетку. Этот образ проистекает из работы швейцарского скульптора Альберто Джакометти «Клетка» (1950). С ним художник познакомился в начале 1960-х годов в одном из кафе в Париже. Бэкону показалось удивительным, что тот, несмотря на богатство и признание, продолжал усердно работать в маленькой мастерской около вокзала Монпарнас. Их дружба закончилась со смертью Джакометти в 1966 году.
Бэкон никогда не писал с натуры, а использовал в качестве основы фотографии. Он говорил: «С момента изобретения фотографии живопись действительно полностью изменилась. В моей студии повреждённые фотографии разбросаны по полу — я использовал их, чтобы написать портреты друзей, а затем сохранил. Для меня проще писать с записей, чем с самих людей — так я могу работать в одиночку и чувствовать себя свободнее. Когда я работаю, то не хочу видеть никого, даже моделей. Эти фотографии для меня как записи на память — они помогают мне передать определённые черты, определённые детали». Зачастую Бэкон использовал работы Джона Дикина — фотографа британского издания журнала «Vogue», с которым художник познакомился около 1950 года в одном из клубов Лондона, а также фотографии Эдварда Мейбриджа, известного американского фотографа XIX века. По фотографиям Дикина Бэкон создал серию портретов своих друзей: Люсьена Фрейда, Генриетты Мораес, Изабеллы Роусторн.
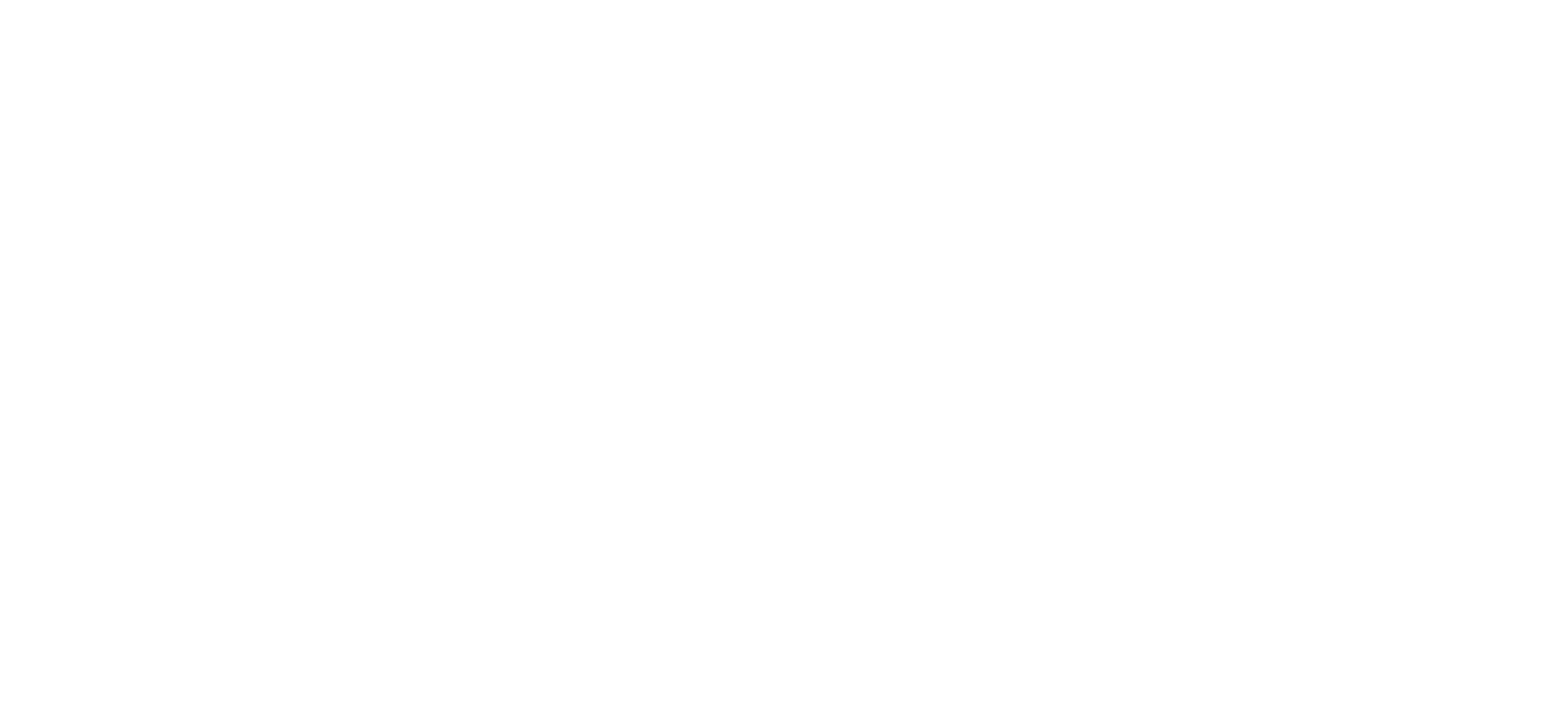
Написана на льняном полотне. О ней Бэкон упоминает в интервью: «Это произошло случайно. Я пытался нарисовать птицу, садящуюся на поле. Это должно было быть как-то связано с теми фигурами, что я писал ранее, но внезапно линия, которую я рисовал, пошла в абсолютно другом направлении, и вокруг этого выросла вся картина. У меня не было намерения рисовать ничего такого, тут как будто одна случайность переходила в другую». Произведение было приобретено арт-дилером Грэхема Сазерленда Эрикой Браузен осенью 1946 года за 200 фунтов, а в 1948 году его купил Альфред Барр для коллекции Нью-Йоркского музея современного искусства, где оно находится до сих пор.
«Этюд по портрету папы Иннокентия X работы Веласкеса» (1953)
Вдохновлённый работой Диего Веласкеса, Бэкон до начала 1960-х годов написал около сорока полотен на подобный сюжет, получивших название «Кричащие папы». На картине папа, как и на оригинале, сидит в кресле, облачённый в белые одежды. Однако, его головной убор и накидка у Бэкона фиолетового цвета, а занавеси, создающие фон, более тёмные и заходят на фигуру папы. Его рот раскрыт — создаётся впечатление крика, приглушаемого тяжёлыми портьерами и тёмным, насыщенным цветом. В своей работе «Логика ощущения» французский философ Жиль Делёз приводит картину как пример «творческого переосмысления классического произведения». С 1980 года произведение экспонируется в Центре Искусств города Де-Мойн, штат Айова, США.
Триптих «Три наброска к портрету Люсьена Фрейда» (1969)
Триптих написан в период близкой дружбы и плодотворного сотрудничества двух художников. На каждом полотне изображена искажённая фигура Фрейда, сидящая на тростниковом стуле и заключённая в геометрическую призму-клетку, на изогнутом коричнево-оранжевом фоне. Позади находится спинка кровати, отсылающая к фотографии, сделанной Джоном Дикином, которой Бэкон пользовался при работе. Цветовая гамма здесь ярче, чем в других картинах художника. Впервые картина экспонировалась в 1970 году в Турине, а затем выставлялась на большой ретроспективе в Гран-Пале в Париже в 1971—1972 годах. С середины 1970-х годов составные части экспонировались раздельно, чем Бэкон был очень опечален. С 1999 года благодаря итальянскому коллекционеру Франческо де Симоне Никезе полотна вновь были собраны вместе. После временной экспозиции в октябре 2013 года, 12 ноября триптих был продан на аукционе Кристис в Нью-Йорке за 142,4 миллиона долларов, став самой дорогой картиной, проданной на аукционе. Её приобрела жена владельца казино в Лас-Вегасе Элейн Уинн.
Чёрные триптихи («В память Джорджа Дайера», «Триптих, август 1972 г.» и «Триптих май — июнь»)
Эти работы объединяют в одну серию, так как они созданы за короткий период после смерти любовника художника Джорджа Дайера осенью 1971 года, и им присущи сходный формат, тематика и стилевое оформление. В них отображены обстоятельства смерти и скорбь по утрате. Бэкон говорил: «Люди говорят, что смерть забывается, но это не так. В конце концов, моя жизнь очень несчастлива, потому что все люди, которых я действительно любил, умерли. Но я не перестаю думать о них — время не лечит». В настоящее время триптих, созданный в 1972 году, и «В память Джорджа Дайера» экспонируются в Галерее Тейт, а «Триптих май — июнь» в 1989 году был продан швейцарскому коллекционеру за 6,3 млн фунтов.
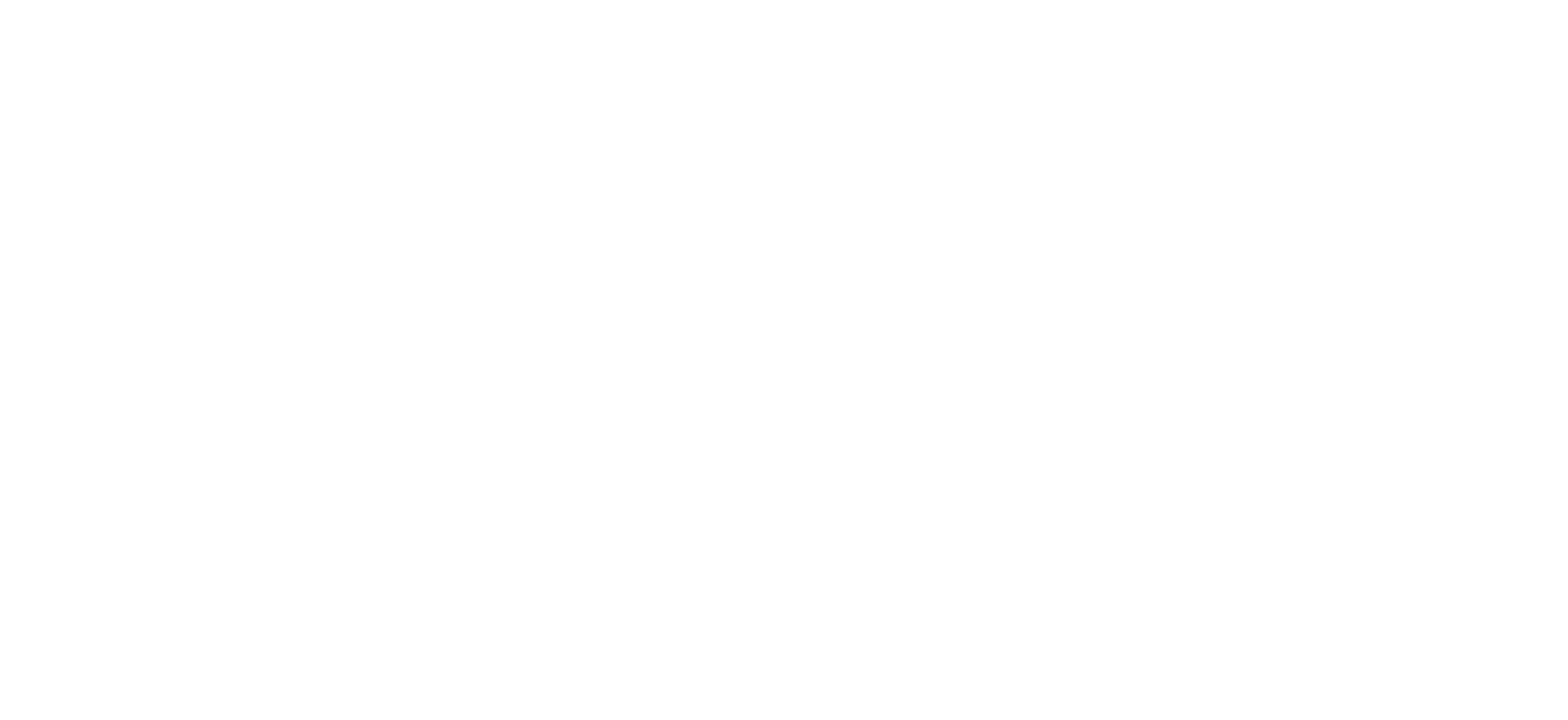
История
«Три этюда для распятия» были созданы в течение примерно двух недель, в рамках подготовки к его первой ретроспективной выставке в Галерее Тейт в Лондоне в 1962 году. Бэкон создавал каждое полотно отдельно, а затем работал над ними в группе, часто находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения или похмелья. Позже он отмечал, что это произведение являлось одной из немногих его работ, которую он смог сделать будучи нетрезвым. Бэкон предполагал, что алкоголь помог ему быть немного свободнее. Триптих был одним из 91 произведения Бэкона (около половины всех на то время), показанных в Галерее Тейт в том году. «Три этюда для распятия» были выставлены тогда с ещё не высохшей краской.
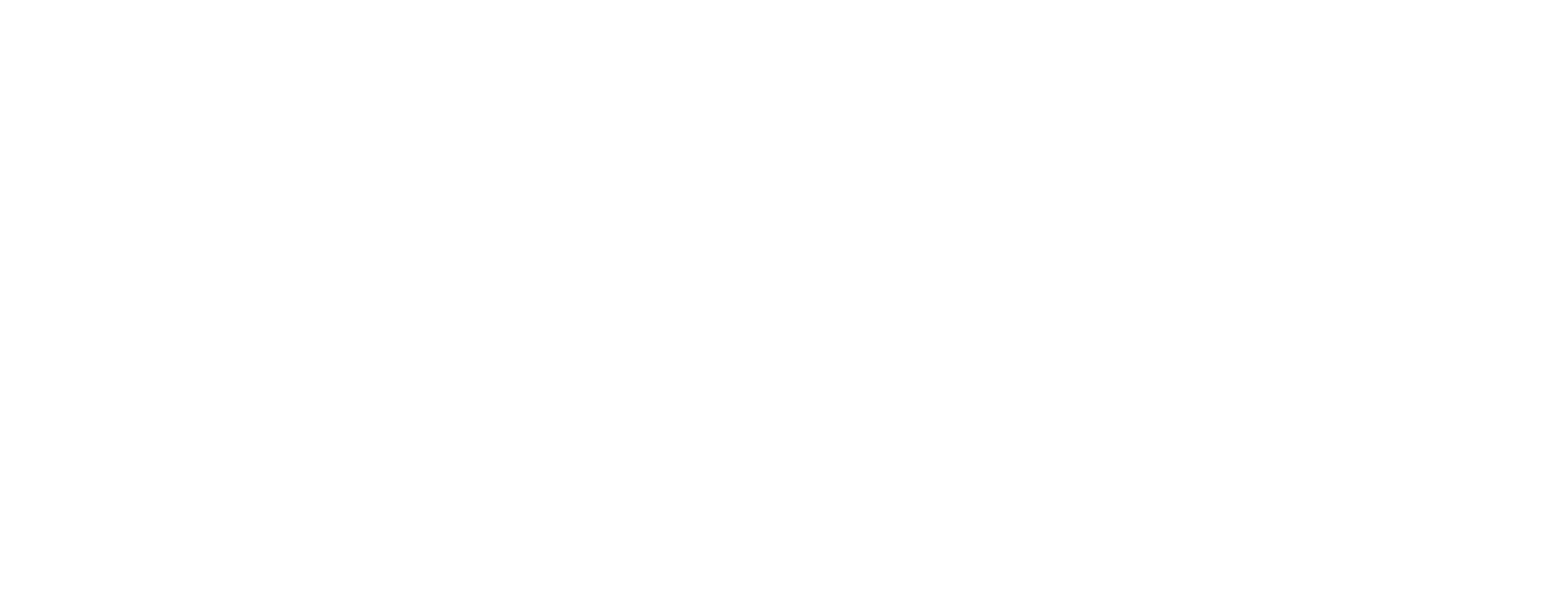
Описание
На левой части триптиха изображены две фигуры в мясной лавке с кусками мяса на прилавке. Центральная часть занята окровавленным человеческим телом, корчащимся на кровати, с белой точкой на ноге, возможно, шрамом от ногтя. Сама же сцена распятия по сравнению с традиционными триптихами, посвящёнными этой теме, перемещена с центральной панели на правую, где она представлена фигурой выпотрошенной туши, которая скользит вниз по кресту. Её искажённая форма является отсылкой (но перевёрнутой) к телу Христа в работе XIII века Чимабуэ «Распятие», на неё также повлияла «Туша быка» Рембрандта.
Позднее Бэкон говорил, что художнику нужно помнить о великой красоте цвета мяса и то, что люди сами являются мясом, потенциальными тушами.
Альтернативная интерпретация триптиха Майкла Пеппиата заключается в том, что яростное отрицание Бэконом любой автобиографической истории в этой работе указывает на совершенно противоположное. Пеппиат предполагает, что три его части связаны с уходом Бэкона из дома, неудовлетворительным сексуальным опытом в Берлине и смертью самого Бэкона.
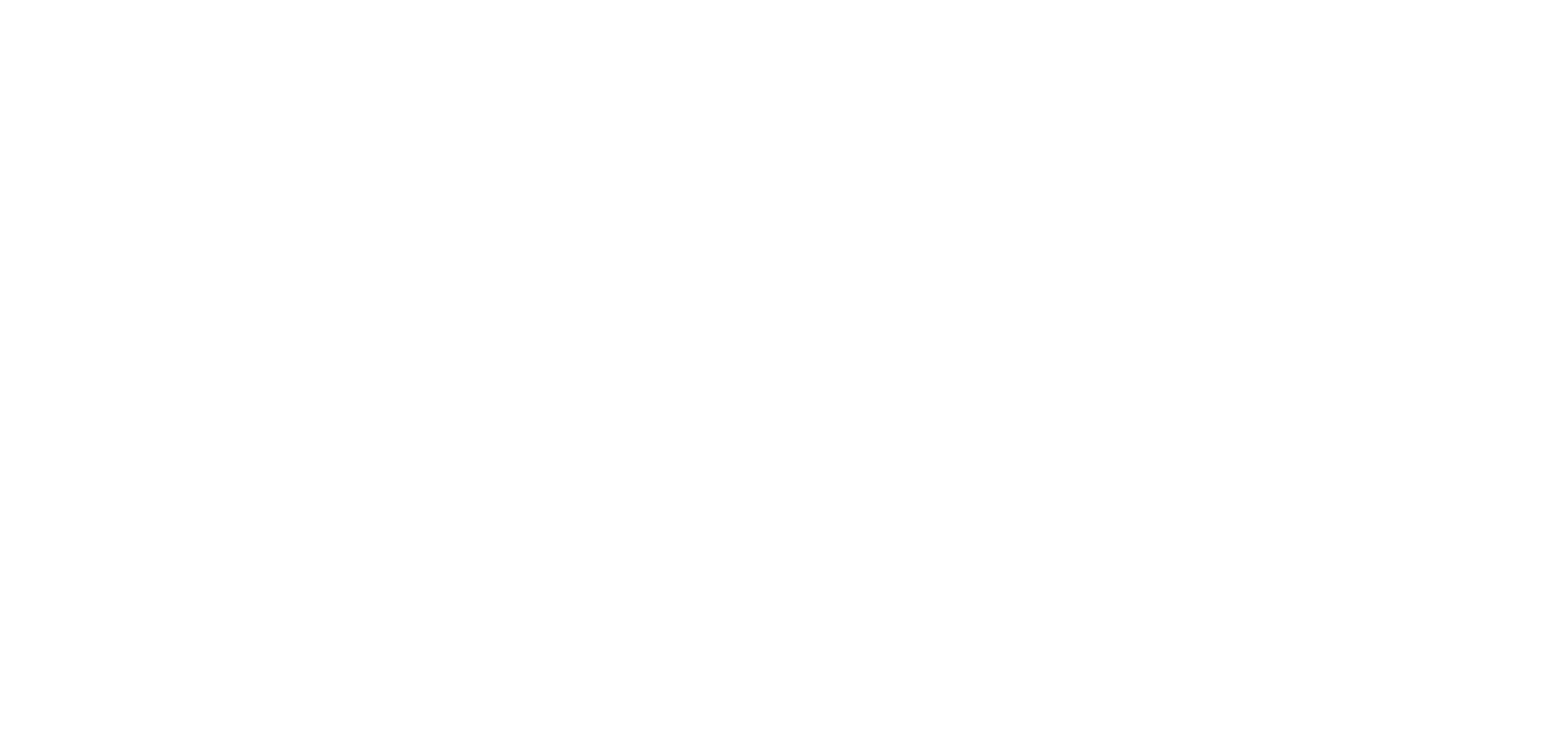
1962 год
Каждое из трёх его полотен имеет размеры 198,1 на 144,8 см.
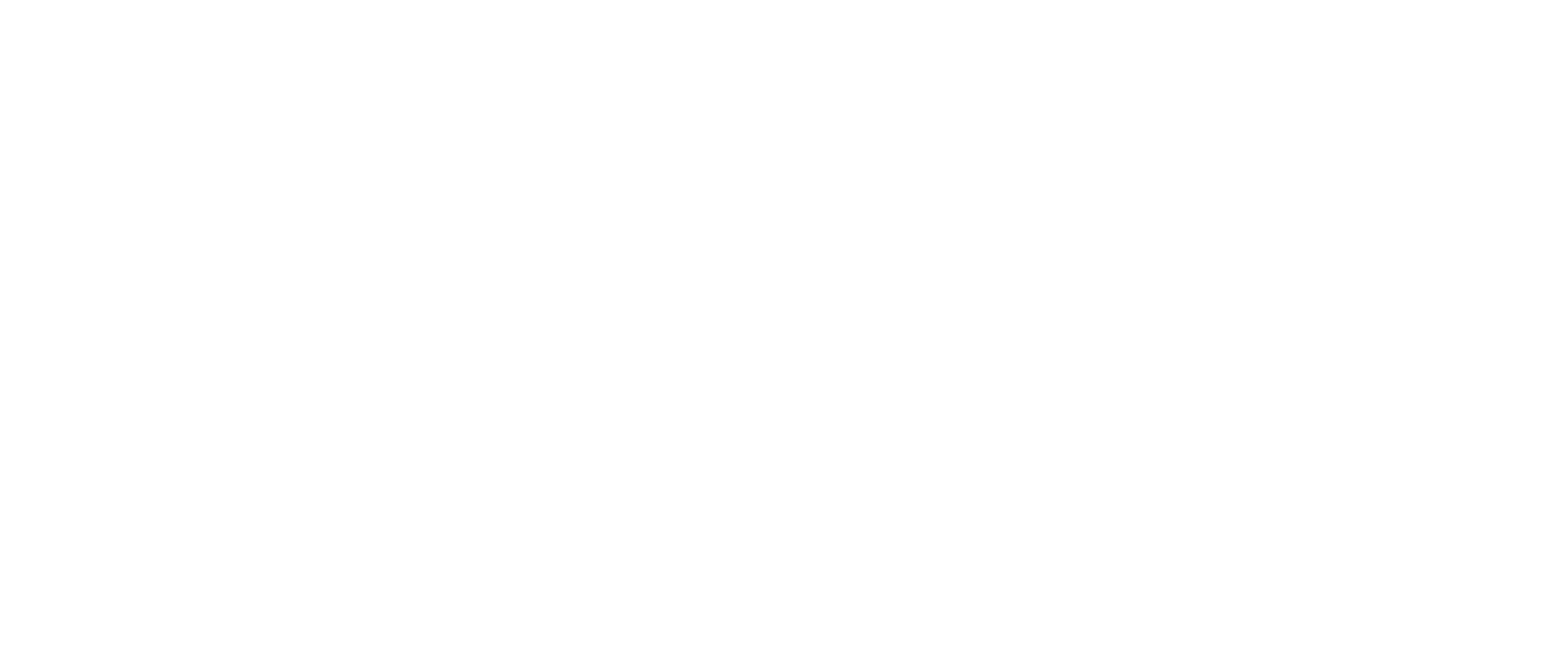
«Три этюда» обычно считаются первой зрелой работой Бэкона; он считал свои работы, написанные до триптиха, неважными и на протяжении всей жизни пытался скрыть их появление на арт-рынке. Когда картина была впервые выставлена в 1945 году, она произвела фурор и сделала Бэкона одним из ведущих послевоенных художников. Отмечая культурное значение «Трёх этюдов», критик Джон Рассел в 1971 году заметил, что «до «Трёх этюдов» в Англии была живопись, а после них — живопись, и никто... не может спутать эти два понятия».
Когда одиннадцать лет спустя он вернулся к теме Распятия, то сохранил некоторые из разработанных ранее стилистических элементов, такие как вытянутые и деформированные органические формы, которые он теперь использовал в «Орестее». Он продолжал использовать пространственный приём, который много раз применял на протяжении своей карьеры, — три линии, расходящиеся от центральной фигуры, впервые появившейся в «Распятии», 1933. «Три этюда» были написаны в течение двух недель в 1944 году, когда, как вспоминал Бэкон, «я был в плохом настроении из-за пьянства и писал, страдая от ужасного похмелья и будучи пьяным; иногда я едва понимал, что делаю. Думаю, возможно, алкоголь помог мне быть немного свободнее». Картина была написана в квартире на первом этаже по адресу Кромвель-Плейс, 7, Южный Кенсингтон в Лондоне. Большая задняя комната в здании была превращена в бильярдную предыдущим жильцом, художником Джоном Эвереттом Милле. Днём это была студия Бэкона, а ночью, при содействии Эрика Холла и няни Бэкона в детстве Джесси Лайтфут, она функционировала как незаконное казино.
Хотя Бэкон рисовал почти двадцать лет, он упорно настаивал на том, что «Три этюда» были истоком и началом его карьеры. Он уничтожил многие из своих ранних полотен и пытался скрыть те, что покинули его мастерскую. Бэкон решительно настаивал на том, чтобы в его канон не входили работы, созданные до 1944 года, и большинство ранних искусствоведов соглашались с этой позицией. Ранние публикации Джона Рассела и Дэвида Сильвестра начинаются с триптиха 1944 года, и Бэкон до самой смерти настаивал на том, что ни одна ретроспектива не должна включать картины, написанные до 1944 года.
Христос с завязанными глазами в "Насмешках над Христом" Маттиаса Грюневальда, ок. 1503, оказал влияние на представление центральной фигуры в трех исследованиях Бэкона.
Искусствовед Хью Дэвис предположил, что из трех фигур та, что слева, наиболее близко напоминает человеческую форму и что она может изображать скорбящего у креста. Сидящее на конструкции, похожей на стол, это лишенное конечностей существо имеет удлиненную шею, сильно округленные плечи и густую копну темных волос. Как и связанные с ним объекты, фигура слева изображена слоями белой и серой краски.
Рот центральной фигуры расположен прямо на шее, а не на лице. Она скалит зубы, словно оскаливаясь, и у неё завязаны глаза повязкой из ткани — вероятно, это отсылка к картине Маттиаса Грюневальда «Издевательство над Христом». Это существо смотрит прямо на зрителя и расположено в центре ряда сходящихся линий, расходящихся от основания пьедестала.
На изолированном участке травы зубастая пасть правой фигуры растянута в крике, хотя Дэвид Сильвестр предположил, что она может зевать. Её пасть открыта до такой степени, что это невозможно для человеческого черепа. Оранжевый фон этой панели ярче, чем оттенки на других кадрах, а шея фигуры переходит в ряд зубов, а из-под нижней челюсти торчит выступающее ухо. Эта картина очень похожа на более раннюю работу Бэкона «Без названия», 1943 г., которая считалась утраченной, пока не была обнаружена в 1997 году.
При осмотре в инфракрасном свете выяснилось, что панели были сильно переработаны в ходе нескольких исправлений. Ноги центральной фигуры окружены маленькими пурпурными подковообразными фигурами, которые, как показывает инфракрасное исследование, изначально были нарисованы как цветы. Область под головой густо покрыта белой и оранжевой краской, а при осмотре обнаруживается ряд изогнутых мазков, использованных для создания пейзажа, и небольшая удалённая лежащая фигура. Если холст не вставлен в раму, на внешнем крае доски видны измерительные метки, указывающие на то, что композиция была тщательно продумана.
Бэкон сказал в письме 1959 года, что рисунки в Трех этюдах были "предназначены для использования в основании большого Распятия, которое я, возможно, все еще сделаю". Этим Бэкон подразумевал, что фигуры были задуманы как пределла к более крупному алтарю. Биограф Майкл Пеппиатт предположил, что панели, возможно, создавались как отдельные работы, а идея объединить их в триптих появилась позже. В темах и стилях трёх панелей мало общего, чтобы предположить, что изначально они задумывались как единое целое. Несмотря на то, что у них один и тот же оранжевый фон, Бэкон уже использовал этот цвет в двух предыдущих работах; более того, в его творчестве можно выделить периоды, в которых преобладает один цвет фона. С самого начала своей карьеры Бэкон предпочитал работать сериями и обнаружил, что его воображение стимулируют последовательности; как он выразился, «образы порождают во мне другие образы».
Само распятие заметно отсутствует, и на панелях нет ни следа, ни намёка на его присутствие. В 1996 году Виланд Шмид отметил, что три фурии заменили Христа и двух разбойников, распятых по обе стороны от него. Форма фурий заимствована непосредственно из работ Пикассо конца 1920-х и середины 1930-х, изображающих биоморфов на пляжах, в частности из работы испанского художника "Купальщицы" (1937). Однако эротизм и комедийность фигур Пикассо были заменены ощущением угрозы и ужаса, частично вызванными насмешками над Христом Маттиаса Грюневальда.
«Три эскиза фигур у подножия распятия» являются ключевыми предшественниками более поздних работ Бэкона, и он сохранял их формальные и тематические особенности на протяжении всей своей карьеры. Формат триптиха, расположение фигур за стеклом в позолоченных рамах, открытый рот, использование живописных искажений, фурии и тема распятия — всё это вновь появится в более поздних работах. Представлен основной способ выражения Бэкона: объекты анатомически и физически искажены, а настроение — жестокое, зловещее и неумолимо физическое. В других отношениях триптих отличается от других картин в его творчестве. Он напрямую отсылает к своим источникам вдохновения и интерпретирует исходный материал в нехарактерно буквальной манере. Триптих отличается ещё и тем, что его персонажи находятся во внешнем пространстве; к 1948 году в работах Бэкона, посвящённых головам и фигурам, особое внимание уделялось их нахождению в комнатах или других закрытых пространствах.
Хотя Бэкон утверждал, что создавал этих существ по образу и подобию фурий, в его законченной работе едва ли можно заметить визуальную связь с источниками. Однако настроение и тон картины соответствуют трагическому духу легенды о фуриях. Их традиционно изображают как древних хтонических божеств, которые мстят за отцеубийство и матереубийство, выслеживая и убивая жестоких преступников. В «Орестее» Эсхила главного героя преследуют фурии, жаждущие отомстить за убийство его матери Клитемнестры. В саге рассказывается о том, как род Атрея был истреблён. Клитемнестра зарезала своего мужа Агамемнона, а затем убила Кассандру, которая предвидела убийства и сказала: «Опьянённые, опьянённые кровью, / Чтобы набраться смелости, они устроили пиршество / В комнатах, откуда никто не сможет их изгнать, / Сестёр-фурий».
Однако Бэкон не стремился иллюстрировать сюжет этой истории. Он сказал французскому искусствоведу Мишелю Лейрису: «Я не мог бы нарисовать Агамемнона, Клитемнестру или Кассандру, потому что это было бы просто ещё одним видом исторической живописи... Поэтому я попытался создать образ того эффекта, который это произвело на меня». Фраза Эсхила «вонь человеческой крови улыбается мне» особенно преследовала Бэкона, и его трактовка рта в триптихе и во многих последующих картинах была попыткой визуализировать это чувство. В 1985 году он заметил, что фраза Эсхила вызывала у него «самые захватывающие образы, и я часто её читал... жестокость этого вызывает у меня в памяти образы, «вонь человеческой крови улыбается мне», ну что может быть удивительнее этого.
Бэкон познакомился с Эсхилом благодаря пьесе Т. С. Элиота 1939 года «Семейное воссоединение», в которой главного героя Гарри преследуют «бессонные охотники, / которые не дают мне спать». В пьесе Элиота фурии служат воплощением угрызений совести и вины, которые испытывает Гарри, хранящий мрачную семейную тайну, известную только его сестре. Бэкон был очарован пьесой Эсхила и стремился узнать больше о греческой трагедии, и много раз говорил, что сожалеет о невозможности прочитать оригинал на греческом. В 1942 году он прочитал Эсхила в его стилеирландского ученого Уильяма Беделла Стэнфорда и нашел тему навязчивой вины в "Орестее" весьма резонансной. В 1984 году Бэкон сказал Сильвестру, что, хотя сюжет его картины не имел прямого отношения к творчеству поэта, для него работы Элиота «открыли клапаны ощущений».
Рот центральной фигуры триптиха также был вдохновлен криком медсестры в эпизоде резни "Одесские шаги" режиссера Сергея Эйзенштейна в "Броненосце Потемкин" (1925). В 1984 году телеведущий Мелвин Брэгг показал Бэкону репродукцию центральной панели во время съемок документального фильма "Шоу на Южном берегу" и заметил, что в своей ранней карьере художник, казалось, был озабочен телесностью человеческого рта. Бэкон ответил: «Я всегда думал, что смогу изобразить рот со всей красотой пейзажа Моне, но мне так и не удалось этого сделать». Когда Брэгг спросил, почему он считает, что потерпел неудачу, Бэкон признался: «Там должно было быть гораздо больше цвета, должно было быть больше внутренней части рта, со всеми цветами внутренней части рта, но у меня не получилось».
Помимо того, что Пикассо исследовал эту тему, распятие не занимало видного места в живописи XX века. Сюрреалисты использовали его шокирующий эффект, и в отдельных случаях оно использовалось как средство богохульства. Бэкон часто выражал своё восхищение тем, как старые мастера, такие как Чимабуэ, изображали распятие; однако, как и Пикассо, он был больше заинтересован в том, чтобы рассматривать эту тему с мирской, гуманистической точки зрения. Для «Трех этюдов» Бэкон не рассматривал Распятие как христианский образ как таковой, а скорее считал, что эта сцена отражает его особый взгляд на человечество. Как он сказал Дэвиду Сильвестру: «Это был просто акт человеческого поведения, способ взаимодействия с другим человеком».
Страсти Христа стали центральной темой в раннем творчестве Бэкона, и он возвращался к этой теме на протяжении всей своей карьеры. Когда критик Джин Клэр спросил Бэкона, почему его сцены Распятия в основном представляют собой «резню, бойню, изуродованное мясо и плоть», Бэкон ответил: «Это и есть Распятие, не так ли? ... На самом деле, вы не можете представить себе ничего более варварского, чем распятие и этот особый способ убийства. Хотя «Три этюда» начинались как попытка напрямую изобразить сцену распятия, его исследования привели его к «чему-то совершенно другому». Бэкон стал рассматривать эту сцену как арматуру для изучения новых способов изображения человеческого поведения и эмоций. Для него это было своего рода автопортретированием; средством для работы над «разными очень личными чувствами, связанными с поведением и образом жизни».
Триптих, написанный в 1944 году, часто связывают со Второй мировой войной. Искусствовед Зива Амишай-Майсселес отмечает, что полотно отражает смятение и двойственное отношение Бэкона «к проявлениям насилия и власти, которые одновременно привлекали и отталкивали его».
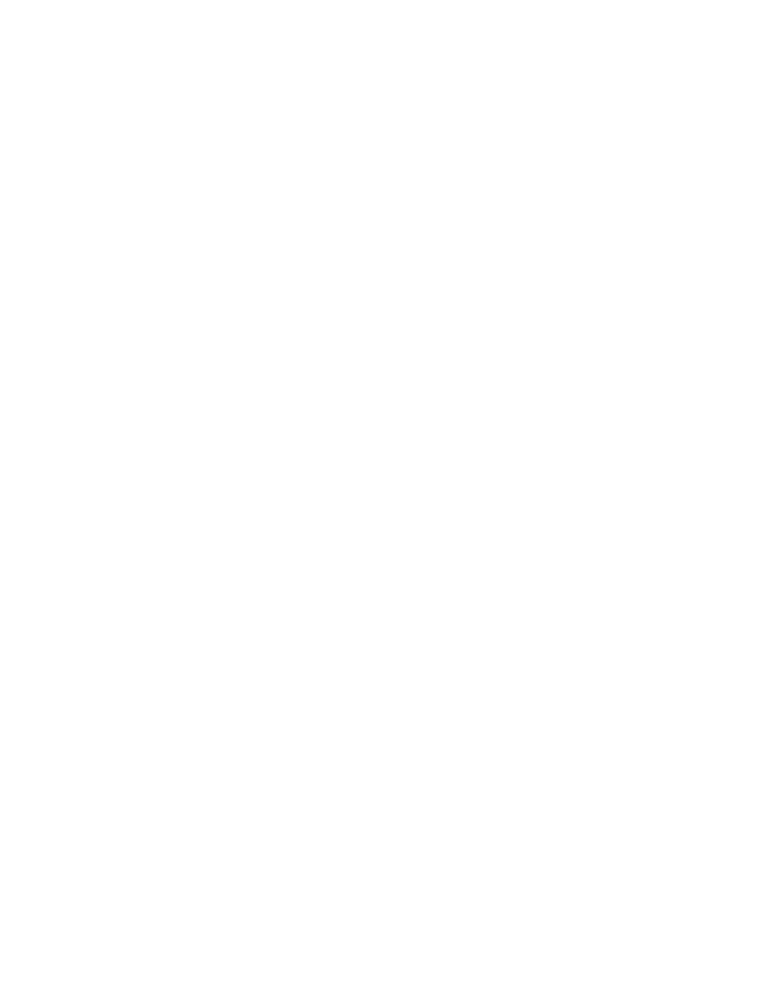
И публика, и критики были шокированы этим произведением. Рассел описывает, как его потрясли «образы настолько невыносимо ужасные, что разум отказывался воспринимать их. Их анатомия была наполовину человеческой, наполовину животной, и они были заключены в пространство с низким потолком, без окон и со странными пропорциями. Они могли кусаться, щупать и сосать, и у них были очень длинные, как у угрей, шеи, но их функционирование в других аспектах было загадочным. У них были уши и рты, но по крайней мере двое из них были слепыми». В статье для журнала «Аполло» Герберт Фёрст вспоминал: «Должен признаться, я был настолько шокирован и встревожен сюрреализмом Фрэнсиса Бэкона, что был рад уйти с этой выставки. Возможно, именно красный фон заставил меня подумать о внутренностях, анатомии или вивисекции и почувствовать отвращение». Триптих произвел фурор и в одночасье превратил Бэкона в самого противоречивого художника в стране.
В рецензии для New Statesman and NationРэймонд Мортимер написал, что панели «напоминают «Распятие» Пикассо [1930], но ещё больше искажены, с шеями страусов и пуговицами, торчащими из мешков, — весь эффект мрачно-фаллический, как у Босха, но без юмора. Эти предметы стоят на табуретках и изображены так, будто это скульптуры, как у Пикассо в 1930 году». Я не сомневаюсь в незаурядных способностях мистера Бэкона, но эти картины, выражающие его представление о жестоком мире, в котором мы выжили, кажутся [мне] символами возмущения, а не произведениями искусства. Если мир восстановит его, он сможет радоваться так, как сейчас пугает". Размышляя о реакции критиков и публики, Бэкон сказал: "Я никогда не понимал, почему мои картины известны как ужасные. Меня всегда ассоциируют с ужасами, но я никогда не думаю об ужасах. Удовольствие — такая разнообразная вещь. И ужасы тоже. Можно ли назвать знаменитый алтарь Изенгейма произведением искусства в жанре ужасов? Это одна из величайших картин, изображающих Распятие, с телом, утыканным шипами, похожими на гвозди, но, как ни странно, форма настолько величественна, что уводит от ужаса. Но в этом весь ужас в том смысле, что это так оживляет; разве не так люди выходили из великих трагедий? Люди вышли оттуда, как будто очистившись от счастья, в более полную реальность существования".
Ирландский писатель Колм Тойбин в 2006 году отметил, что триптих сохранил своё «по-настоящему поразительное» воздействие. Мэтью Киран в своём эссе 2005 года о картине написал, что «эти напуганные, слепые, разъярённые фигуры оказывают сильное воздействие, вызывая ощущения страха, ужаса, изоляции и тревоги. Мы реагируем на них как на сознательных существ, их позы и выражения лиц передают чувства застывшей изоляции, жгучего ужаса, боли и слепого замешательства. С 2007 года «Три этюда» входят в постоянную коллекцию Галереи Тейт, будучи подаренными любовником Бэкона Эриком Холлом в 1953 году.
Подробную биографию художника, озаглавленную «Фрэнсис Бэкон: Анатомия загадки», написал Майкл Пеппиат. Кроме того, творчество Бэкона было подвергнуто анализу французским философом Жилем Делёзом в работе «Фрэнсис Бэкон: Логика ощущения» (1981). Писатель Джонатан Литтелл посвятил творчеству художника книгу «Триптих. Три этюда о Фрэнсисе Бэконе» (2010).
В 2015 году в Берне Тим Берен и Флориан Пачовски (они образуют творческий союз Overhead Project) поставили балет «Фрэнсис Бэкон».
Мишель Лейрис. Большая игра Фрэнсиса Бэкона // Пространство другими словами: Французские поэты XX века об образе в искусстве. СПб: Издательство Ивана Лимбаха, 2005, с. 115—123.
Жиль Делёз. Фрэнсис Бэкон. Логика ощущения. М: Издательство Machina, 2011, 200 с., илл.
Джонатан Литтелл. Триптих. Три этюда о Фрэнсисе Бэконе. М: Издательство Ad Marginem, 2013, 144 с., илл.
Sylvester, David. Looking back at Francis Bacon. London: Thames and Hudson, 2000. ISBN 0-500-01994-0.
Peppiatt, Michael. Francis Bacon: Anatomy of an Enigma. Constable & Robinson, 2012. ISBN 978-1-84529-731-2.
Фрэнсис Бэкон
"Бэкон был мастером превращения ужаса в красоту. Его картины — это не просто изображения страдания, но и глубокое исследование человеческой природы."
Сильвестр также отмечал, что Бэкон "умел писать крик так, как никто другой".
Джон Бергер (искусствовед и писатель):
"Бэкон — это художник, который заставляет нас смотреть на то, что мы предпочли бы игнорировать. Его работы — это зеркало, отражающее нашу собственную уязвимость."
Пегги Гуггенхайм (известная коллекционерка и меценат):
"Бэкон — это гений, который смог выразить хаос и боль современного мира. Его работы пугают, но именно поэтому они так важны."
Эли Брод (американский коллекционер и филантроп):
"Бэкон — это художник, который не боится исследовать темные стороны человеческой души. Его картины — это вызов, который заставляет нас задуматься о самих себе."
Люсьен Фрейд (друг Бэкона и известный художник):
"Фрэнсис был уникален в своей способности передавать эмоции через форму и цвет. Он не боялся быть откровенным, и именно это делает его работы такими мощными."
Дэмиен Херст (современный художник):
"Бэкон — это тот, кто показал, что искусство может быть не только красивым, но и пугающим, и это делает его одним из величайших художников всех времен."
Майкл Пеппиатт (биограф Бэкона):
"Бэкон был одержим идеей смерти и конечности человеческого существования. Его работы — это попытка запечатлеть мимолетность жизни и ужас перед неизбежным."
Жиль Делёз (философ, автор книги "Фрэнсис Бэкон: Логика ощущения"):
"Бэкон не просто изображает тело, он деформирует его, чтобы показать силы, которые на него действуют. Его картины — это не портреты, а "силовые поля", где тело сталкивается с внешними и внутренними давлениями."
Марк Стивенс и Аннанда Донахью (соавторы биографии «Francis Bacon»)
«Бэкон не просто изображал страдание — он превращал его в ритуал. Его картины заставляют зрителя почувствовать, что боль и экзистенциальный ужас — неотъемлемая часть человеческого опыта» .
Роберт Хьюз (австралийский арт-критик)
«Бэкон — это художник, который разорвал плоть академизма, чтобы показать кровоточащую правду. Его работы — это крик в тишине современного мира» .
Жан-Франсуа Лиотар (философ)
«У Бэкона нет композиции — есть взрыв. Его холсты — это театр жестокости, где фигура сталкивается с абсурдом бытия» .
4. Питер Шьелдал (арт-критик, автор книги «Francis Bacon: Commitment and Conflict»)
«Бэкон — мастер амбивалентности. Его картины одновременно притягивают и отталкивают, словно зеркало, в котором мы видим свою собственную животную сущность» .
Лоуренс Гоуинг (искусствовед)
«Бэкон не боялся уродства. Для него искаженные тела были не дефектом, а формой честности. Он говорил: „Я хочу, чтобы моя живопись выла“» .
Фрэнсис Бэкон (из интервью)
Сам художник о своей работе:
«Я стремлюсь к изображению нематериального — крика, боли, страха. Это не садизм, а попытка показать, как устроен человек изнутри» .
Артур Данто (философ искусства)
«Бэкон — это Гойя XX века. Его работы — это визуальные метафизические эссе о том, как тело становится полем битвы между жизнью и смертью» .
Кэтрин Лэмпкин (куратор Тейт Модерн)
«Бэкон работал с фотографиями, но его живопись не имеет ничего общего с реализмом. Он превращал снимки в символы, где каждая мазок — это удар судьбы» .
Жиль Делёз (из книги «Логика ощущения»)
«У Бэкона нет фигур — есть силы. Его живопись разрушает форму, чтобы высвободить энергию, скрытую под кожей» .
Чак Клоуз (американский художник)
«Бэкон доказал, что портрет может быть не только изображением лица, но и картой человеческой души. Его работы — это электрокардиограммы эмоций» .
Марина Абрамович (художница)
«Бэкон — мой учитель. Он показал, что искусство может быть опасным. Его картины — это не образы, а удары, от которых невозможно защититься» .
Николас Сериот (искусствовед)
«Бэкон не принадлежал ни к одной школе. Он создал собственный язык, где цвет — это кровь, а форма — рана» .
Фрэнсиса Бэкона:
между ужасом и восторгом
Критики часто обвиняли Бэкона в излишней жестокости и цинизме. Его картины, такие как «Кричащий папа» (1953) или «Три этюда к автопортрету» (1979), шокируют гротеском и насилием над формой.
Критическая позиция :
Некоторые искусствоведы называли его стиль «порнографией страдания», утверждая, что он эксплуатирует темы боли и смерти для провокации.
Апологеты :
Сторонники видят в этом попытку показать хрупкость человеческого существования. Как писал философ Жиль Делёз :
«Бэкон не изображает тело — он раскрывает силы, которые его разрывают. Это не ужас, а правда о нашей экзистенции».
Отказ от традиционной композиции
Бэкон игнорировал академические каноны, создавая «сломанные» пространства. Его фигуры часто помещены в геометрические клетки, словно запертые в ловушке бытия.
Критика :
Консерваторы считали это дилетантством, отсутствием технического мастерства.
Поддержка :
Дэвид Сильвестр , биограф Бэкона, отмечал:
«Его композиции — это театр жестокости. Каждый мазок усиливает напряжение, превращая холст в зону конфликта».
Влияние фотографии и кинематографа
Бэкон использовал фотографии (например, снимки Эадварда Майбриджа ) и кадры из фильмов в качестве эталонов. Это вызывало споры о «вторичности» его искусства.
Критика :
Некоторые обвиняли его в эпигонстве, утверждая, что он копирует динамику кинокадра.
Апологеты :
Майкл Пеппиатт , биограф, подчёркивал:
«Бэкон трансформирует фотографию в метафизику. Его работы — не копии, а вопли, застывшие на холсте».
Религиозные и философские аллюзии
Картины Бэкона часто содержат отсылки к христианству (например, «Крестный путь» , 1944) и греческой трагедии.
Критика :
Религиозные деятели видели в его трактовках кощунство.
Поддержка :
Элиот Вайнбергер (литературный критик) писал:
«Бэкон не пародирует религию — он показывает её архетипы через призму современного экзистенциального кризиса».
Личная жизнь и её влияние на творчество
Открыто гомосексуальный в эпоху уголовного преследования ЛГБТ в Британии, Бэкон вплетал в работы темы табу, вины и желания.
Критика :
Консерваторы называли его искусство «болезненным самовыражением».
Поддержка :
Питер Конрад (культуролог) отмечал:
«Бэкон превратил личные травмы в универсальный язык. Его картины — это зеркало подавленных эмоций общества».
Наследие: гений или шарлатан?
Даже сегодня мнения полярны:
Противники :
«Это хаос, а не искусство. Любой может изобразить мазню, но не каждый станет гением» .
Сторонники :
Дэмиен Херст :
«Бэкон — один из немногих, кто показал, что искусство может быть честным. Его работы пугают, потому что они правдивы» .
Итог
Творчество Бэкона — это вызов зрителю. Его критики видят в нём циника, эксплуатирующего страдание, а почитатели — провидца, раскрывающего суть человеческой природы. Как говорил сам художник:
«Я хочу, чтобы мои картины кричали. Красота — это глубина, а не поверхность» .
Споры вокруг его наследия лишь подтверждают: искусство Бэкона живёт, задевая за живое даже спустя десятилетия.
Источники: работы Делёза, Сильвестра, интервью Бэкона, статьи в The Guardian, Artforum.
Наш магазин на ул. Трофимова, дом 29, предлагает редкие предметы старины для ценителей и коллекционеров.
Старинная мебель: комоды эпохи ампир, стулья времен Людовика XV.
Картины и графика: работы известных мастеров.
Фарфор и керамика: сервизы, вазы, статуэтки.
Ювелирные изделия: украшения с драгоценными камнями.
Книги и документы: редкие издания, рукописи, автографы.
Почему мы?
Магазин расположен в центре Москвы. Эксперты расскажут историю каждого предмета. Антиквариат — это не только красота, но и выгодная инвестиция.
Как купить?
Посетите магазин по адресу: ул. Трофимова, дом 29.
Изучите онлайн-каталог с фото и описаниями.
Получите консультацию по подлинности и уходу.
Интересные факты:
В коллекции есть предметы, принадлежавшие известным личностям.
Ассортимент регулярно обновляется.
Мы сотрудничаем с реставраторами для сохранения экспонатов.
Контакты:
Адрес: ул. Трофимова, дом 29
Телефон: +7 (901) 780-09-61, +7 (901) 780-06-93
Сайт: www.антиквариат29.рф
Режим работы: пн-вс, с 11:00 до 17:00
Станьте частью истории вместе с нами!
Антикварный магазин
на ул. Трофимова, д. 29
Профессиональная команда экспертов по антиквариату
Наши специалисты — истинные исследователи истории. Их знания превращают каждый предмет в живую историю, раскрывая тайны, скрытые в старинных вещах. Они не просто изучают прошлое — они чувствуют его дыхание.
Антиквариат: мост между эпохами
Каждая вещь — это послание из другого времени. От винтажных часов до картин XIX века, антиквариат связывает прошлое с настоящим, оживляя эпохи и судьбы. Это не просто предметы — это ключи к пониманию истории.
Подарок с историей
Мы создаем уникальные впечатления через антиквариат. Представьте подарок, который хранит в себе целую эпоху: будь то серебряный ларец или редкая гравюра. Такие вещи становятся порталом в прошлое, даря неповторимую связь с минувшими эрами.