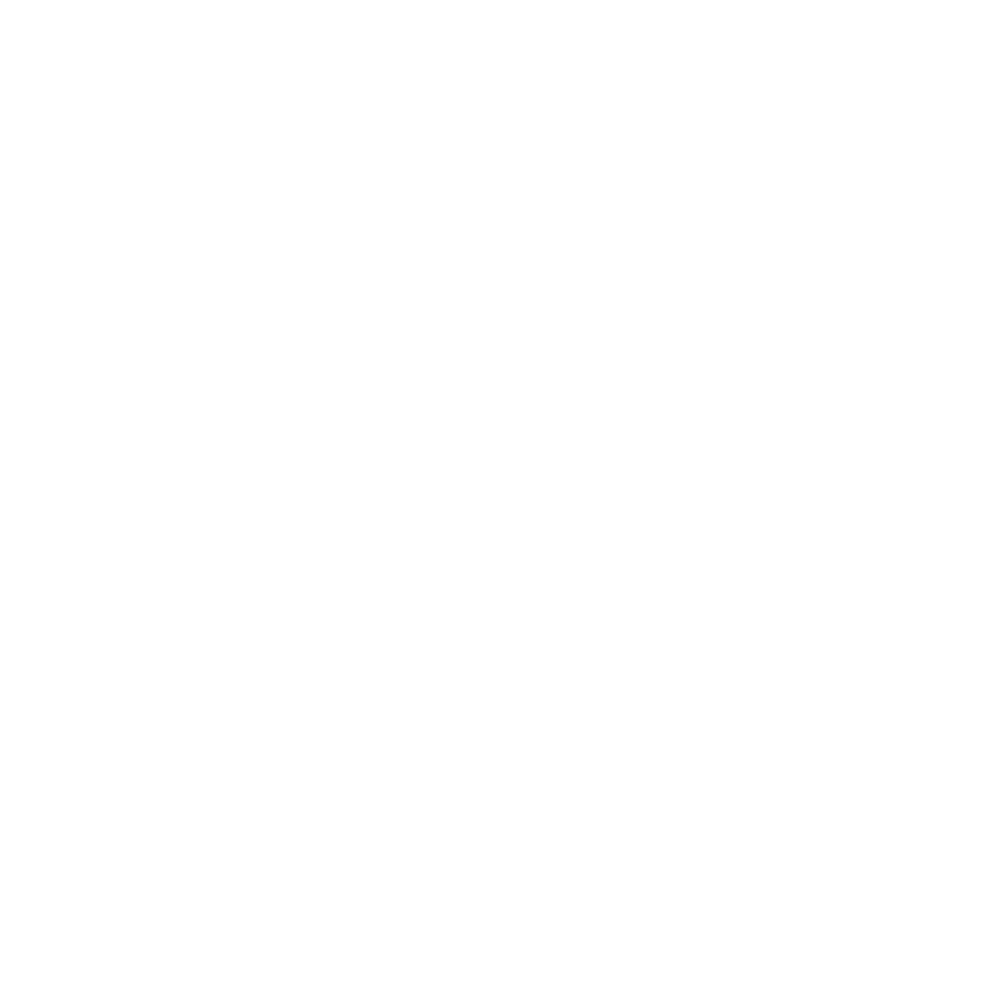Фряжское письмо
Вагнер Г.К., "Русская иконопись XVII века", 1981 год
В современном искусствоведении выражение фряжское письмо уже является устаревшим, но часто упоминается, являясь актуальным для пояснения влияния западной культуры на некоторые виды искусства в России.
Примерно в это же время, сначала в Пскове, появляются, так называемые богословско-дидактические иконы, в которых для выражения богословских истин пытаются использовать приёмы символизма и аллегории. О подобных изображениях пишет переводчик Максима Грека Дмитрий Герасимов (1518—1519 годы). Максим Грек так высказывался об этих иконах: «Преизлишне таковы образы писати, иноверным и нашим хрестианам простым на соблазн». Герасимов также сообщает, что новгородский архиепископ Геннадий оспаривал подобные изображения, но псковичи сослались на греческие образцы и архиепископа не послушали.
Столкновение традиционного и нового подходов к иконописи произошло в середине XVI века, в рамках собора на ересь Матвея Башкина в 1553—1554 годах. Во время одного из соборных заседаний посольский дьяк Иван Висковатый выступил против западных нововведений в иконописи (в новонаписанных после московского пожара 1547 года иконах), в частности, против изображения Бога Отца и иных символических и аллегорических изображений в антропоморфном образе. Под обвинение дьяка попал протопоп Благовещенского собора Сильвестр, новгородец. Эти обвинения задевали и митрополита Макария, бывшего новгородского архиепископа. В результате дьяк был осуждён к трёхлетней епитимии, ему было запрещено держать у себя вероучительные книги и размышлять на эти темы. Собор подтвердил допустимость большинства спорных иконописных сюжетов.
Несколько позже, в 60-х годах XVI века, инок новгородского Отенского монастыря Зиновий в своём объёмном антиеретическом труде «Истины показания к вопросившим о новом учении» с тех же позиций, что и осуждённый дьяк выступил против новых икон.
Запрет на отказ от традиционных канонов был закреплён решениями Большого Московского собора 1666—1667 годов, известного в истории судом над Никоном, установлением многих канонических норм, а также началом активной борьбы со старообрядчеством.
Однако, несмотря на все принятые меры, в частности закрепление церковными соборами канонических форм иконописи, закрепляющими правила письма на основе иконописных подлинников, и принятие в качестве образцов иконы Андрея Рублева, уже к XVII веку мало кто из иконописцев понимал, что такое канон и иконописный стиль. К этому времени каноническая форма иконописания перестаёт удовлетворять иконописцев, в результате чего они постепенно отказываются следовать строгим канонам, не понимая связи этой формы с богословием.
Это явилось причиной принятия за эстетический эталон западноевропейского искусства в духе академизма, несмотря на то, что культура и эстетика Западной Европы, а вместе с тем и богословие, разительно отличались от русских православных культурно-эстетических традиций. Однако, вместе с тем, появление в России фряжского письма повлияло и на становление академической живописи. Вполне возможно, что толчком к переходу на манеру фряжского письма явилась мода на парсуны — ранние светские портреты, манерой исполнения следующие канонической иконописной традиции и не удовлетворяющие художников и заказчиков.
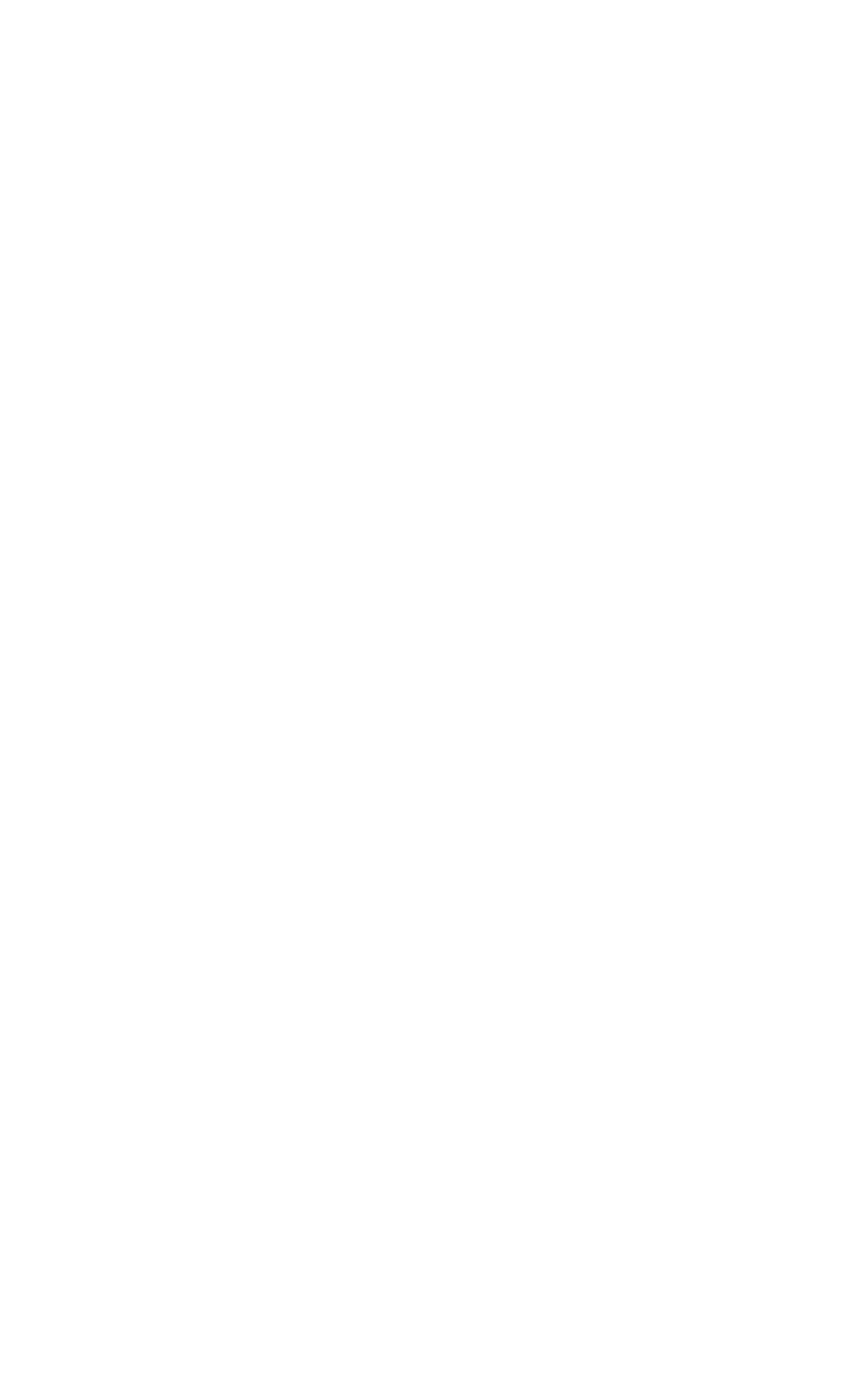
Кроме Симона Ушакова, представителями «школы» фряжского письма являются также Богдан Салтанов, Гурий Никитин и Карп Золотарёв.
Всё это привело к тому, что в XVIII—XIX веках в храмах уже повсеместно господствует масляная живопись в духе академизма.
Пишут спасов образ Еммануила, лице одутловато, уста червонная, власы кудрявые, руки и мышцы толстые, персты надутые, тако же и у ног бедры толстыя, и весь яко немчин брюхат и толст учинен, лишо сабли той при бедре не писано. А то все писано по плотскому умыслу, понеже сами еретицы возлюбиша толстоту плотскую и опровергоша долу горняя. <…> А все то кобель борзой Никон, враг, умыслил, будто живыя писать, устрояет все по фряжскому, сиречь по немецкому. Якоже фрязи пишут образ Благовещения пресвятыя богородицы, чреватую, брюхо на колени висит, — во мгновении ока Христос совершен во чреве обретеся. <…> Вот иконники учнут Христа в рождестве с бородою писать, а богородицу чревату в Благовещение, яко же и фрязи поганыя. А Христа на кресте раздутова: толстехунек миленькой стоит, и ноги те у него, что стульчики. Ох, ох, бедная Русь, чего-то тебе захотелося немецких поступов и обычаев!
Вице-президент Российской Академии Художеств князь Григорий Григорьевич Гагарин не мог найти отклика у общества середины XIX века на приверженность к канонической иконе:
«Стоит только завести разговор о византийской живописи, тотчас у большого числа слушателей непременно явится улыбка пренебрежения и иронии. Если же кто-то решится сказать, что эта живопись заслуживает внимательного изучения, то шуткам и насмешкам не будет конца. Вам наговорят бездну остроумных замечаний о безобразии пропорций, об угловатости форм, о неуклюжести поз, о неловкости и дикости в композиции — и все это с гримасами, чтобы выразительнее изобразить уродливость отвергаемой живописи».
За отказ от фряжского письма в XIX веке выступали славянофилы, и в частности М. П. Погодин:
«У наших художников всегда перед глазами пантеоны и Мадонны, так могут ли они понять, что такое русский образ и что такое русская икона?».
Новую иконопись острой и выразительной критике подверг Л. А. Успенский. Цитируя теоретика иконописания XVII века Иосифа Владимирова, он показывает, что для сторонника фряжского письма «подлинность … есть верность тому, что художник видит в окружающей его жизни». Меняются представление о истинности образа. Теперь это не иератический реализм (по выражению протоиерея Георгия Флоровского) древней иконописи, являющий святость первообраза, богоприсутвие, а внешнее подобие, иконописец апеллирует к эстетическому чувству, в нём утверждает подлинность изображаемого. Традиционная иконопись представляется несовершенным и грубым художеством, а в пример ставится западное искусство. Таков взгляд, по меньшей мере, ведущих царских иконописцев Иосифа Владимирова и Симона Ушакова.
Иконописное живоподобие подвергается критике на Балканах. Новые иконы считаются неприемлемыми на Афоне.
1. Г.К. Вагнер. «Русская иконопись XVII века»
Вагнер подробно описывает синтез древнерусских традиций с западноевропейскими элементами:
«В XVII веке русская иконопись переживает этап активного диалога с европейской культурой. Мастера Оружейной палаты, такие как Симон Ушаков, вводят в иконопись светотень, трёхмерность фигур и динамичные композиции, заимствованные из западных гравюр. Это не отменяет канонов, но обогащает язык иконописи новыми выразительными средствами».
Хотя термин «фряжское письмо» не используется, Вагнер подчёркивает, что такие нововведения стали мостом между византийским наследием и барочным реализмом .
2. Н.П. Кондакова. «История русской живописи»
В разделе о XVII веке Кондакова пишет:
«Реформы патриарха Никона и усиление связей с Западом привели к появлению в иконописи элементов, чуждых древнерусскому канону: перспективные пейзажи, анатомическая достоверность, внимание к материальности одежд. Эти изменения, хотя и вызывали споры, стали основой для формирования национальной школы светской живописи».
Это описание соответствует сути «фряжского письма» как смеси традиций .
3. В.Н. Лазарев. «История византийской живописи»
Лазарев анализирует культурные связи Византии и Древней Руси, но также касается поздних периодов:
«После падения Константинополя (1453) русская иконопись, унаследовав византийские традиции, всё чаще впитывает западные влияния. Особенно это заметно в XVII веке, когда в иконах появляются элементы, близкие к европейской манере: драматичные ракурсы, эмоциональная экспрессия, интерес к индивидуализации образов».
4. О.С. Попова. Статьи о Симоне Ушакове
Попова в своих исследованиях акцентирует роль Симона Ушакова как реформатора:
«Ушаков впервые в русской иконописи систематически использует светотень, моделировку объёмов и перспективу, заимствованные из западноевропейских гравюр. Его „Троица“ из Троице-Сергиева монастыря — пример синтеза канонического стиля с новыми приёмами, которые позже назовут „фряжским письмом“».
Хотя термин здесь упоминается, важно уточнить, что Попова, как и другие исследователи, чаще использует понятия «западные влияния» или «реформы XVII века» .
Дополнительные источники
Л.А. Шапошникова в книге "Русская иконопись XVII–XVIII веков" пишет:
«Новая живописная техника, включавшая использование тёмного фона, контрастов света и тени, стала ответом на запросы времени. Это не отход от канона, а его переосмысление в диалоге с Европой».
В.Г. Дементьева в статье "Культурный синтез в русской иконописи" отмечает:
«XVII век — эпоха „фряжских“ экспериментов, когда иконописцы осваивали европейские приёмы, не нарушая сакральной сути образа. Результат — уникальная стилистика, сочетающая строгость канона с живостью реализма».
Термин «фряжское письмо» чаще встречается в популярной литературе или лекциях как условное обозначение западных влияний на русскую иконопись. В академических трудах его заменяют термины:
«западноевропейский влияния» ,
«реформы XVII века» ,
«барочный синтез» .
Особенно заметным было влияние "фряжского письма" на портретный жанр. Если традиционная парсуна еще сохраняла условность и плоскостность, то под воздействием западных техник изображения знати и членов царской семьи стали более индивидуализированными и живыми. Ярким примером являются работы мастеров Оружейной палаты, таких как Симон Ушаков и Иосиф Владимиров, которые сочетали иконописные традиции с элементами европейского ренессансного искусства. Их произведения демонстрируют переход от символического отображения к стремлению передать реальные черты и характер модели.
Влияние "фряжского письма" вышло за рамки религиозного искусства, подготовив почву для развития светской живописи в России XVIII века. Оно способствовало появлению первых станковых картин, росписи дворцовых интерьеров в западноевропейской манере, а в дальнейшем — становлению академической школы живописи. Таким образом, "фряжское письмо" сыграло ключевую роль в модернизации русского искусства, став мостом между средневековой иконописной традицией и новыми художественными направлениями петровской эпохи.
о фряжском письме.
В своих трудах (например, "История русского искусства" ) Грабарь действительно анализировал взаимодействие русской иконописи с западноевропейскими влияниями, но термин "фряжское письмо" он не использовал. Его интересовало, например, творчество Симона Ушакова и реформы XVII века.
Михаил Алпатов
Алпатов специализировался на западноевропейском искусстве (например, творчество Леонардо да Винчи). В работах о русской живописи он акцентировал внимание на иконописной традиции, но не упоминал "фряжское письмо".
Наш магазин на ул. Трофимова, дом 29, предлагает редкие предметы старины для ценителей и коллекционеров.
Картины и графика: произведения известных художников.
Фарфор и керамика: сервизы, вазы, статуэтки.
Ювелирные изделия: украшения с драгоценными камнями.
Книги и документы: редкие издания, рукописи, автографы.
Почему мы?
Магазин находится в центре Москвы. Эксперты помогут узнать историю каждого предмета.
Антиквариат — это не только красота, но и выгодная инвестиция. Каждый экспонат имеет подтверждение подлинности.
Как купить?
Посетите наш магазин по адресу: ул. Трофимова, дом 29.
Изучите онлайн-каталог с фото и описаниями товаров.
Получите консультацию по вопросам подлинности и ухода за изделиями.
Интересные факты
В коллекции представлены предметы, принадлежавшие известным историческим личностям.
Ассортимент регулярно обновляется. Мы сотрудничаем с профессиональными реставраторами для сохранения экспонатов.
Контакты
Адрес: ул. Трофимова, дом 29
Телефоны: +7 (901) 780-09-61, +7 (901) 780-06-93
Сайт: www.антиквариат29.рф
Режим работы: ежедневно, с 11:00 до 17:00
Станьте частью истории вместе с нами!
Антикварный магазин
на ул. Трофимова, д. 29
Профессиональная команда знатоков антиквариата
Наши эксперты — исследователи, раскрывающие тайны прошлого. Их опыт превращает предметы в уникальные истории. Они слышат шепот веков.
Каждый эксперт обладает глубокими знаниями в своей области. От старинных часов до редких картин — каждый предмет изучается профессионально.
Мир антиквариата: путешествие во времени
Антиквариат — это проводник в прошлое. Каждый предмет хранит следы эпохи и судеб. Шкатулки, часы, картины становятся мостами между временами.
Каждая вещь рассказывает свою историю. Мы помогаем ей заговорить. Антиквариат становится живым свидетелем прошлых веков.
Антиквариат как источник волшебства
Мы создаем волшебство, находя антикварные предметы. Представьте подарок с целой историей внутри. Старинные вещи связывают нас с другой эпохой.
Подарите близким путешествие во времени. Каждый антикварный предмет — это история, которая оживает в ваших руках. Мы помогаем найти особенные вещи.